Обзор подходов к терапии травмы в психоаналитической парадигме.
Ранние травмы могут приводить к уязвимости перед повседневными событиями.
Краткий обзор
- Понятие психотравмы многомерно и субъективно.
- Травма разрушает устоявшийся образ жизни, психические структуры и защитные стратегии.
- Событие делает субъекта уязвимым для тревог из внешних и внутренних источников.
- Ранние травмы могут приводить к уязвимости перед повседневными событиями.
- Тяжелое переживание травматического опыта может привести к психическому расстройству.
- Работа с травмой требует чуткости, внимания, терпения и профессионализма от специалиста.
- Общие инструменты психоаналитической терапии: работа со свободными ассоциациями, работа с переносом, сновидениями, сопротивлениями, эмпатия и непредвзятость аналитика.
- Восстановление воспоминаний о травматических переживаниях и эмоциях является важным для терапии.
- Различные подходы к терапии травмы имеют свои особенности и применение в зависимости от типа травмы и состояния пациента.
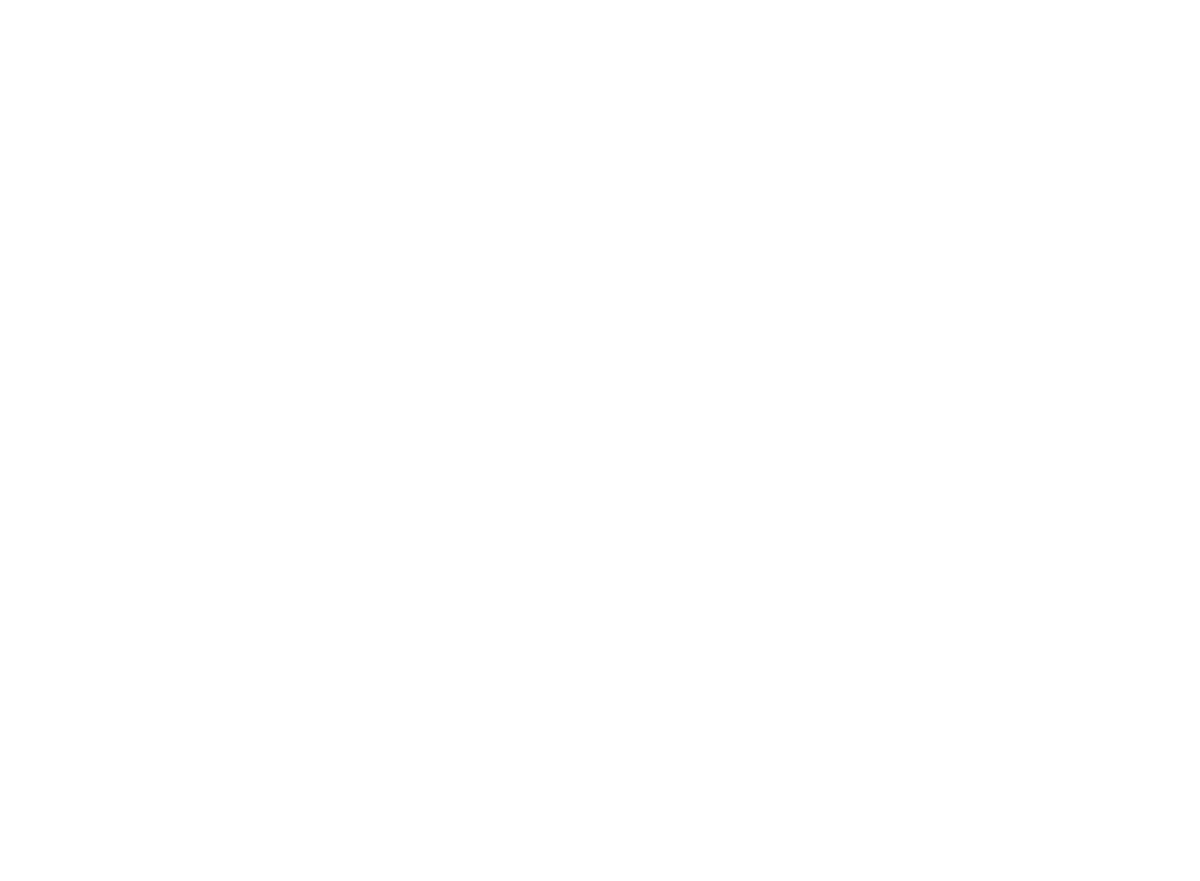
Полный текст статьи
Понятие психотравмы действительно многомерно и очень субъективно. Семантика этого термина довольно размытая, так как травма - это всегда стресс, но при этом не всякий стресс приводит к травме. И потому всестороннее исследование теории психотравмы необходимо, в первую очередь, для выбора верного направления работы с травмированным клиентом.
Травма - это разрушение устоявшегося образа жизни, представлений о безопасности и стабильности окружающего мира, устоявшихся психических структур и защитных стратегий. Травма - это событие, делающее субъекта уязвимым для любых тревог - как из внешних, так и из внутренних источников. Примитивные страхи, импульсы и тревоги обретают новую жизнь. Вера в фундаментальную доброту объектов и, собственно, в доброту самого мира расшатывается. Утрата веры в предсказуемость мира и в охранную функцию хороших объектов, как внутренних, так и внешних, неизбежно будет означать возрождение страхов перед жестокостью и силой плохих объектов.
Одни события в истории субъекта полностью нарушают привычные констелляции психики, вдребезги разбивая её фильтрующие защитные барьеры и со временем проникая сквозь любое временное отрицание и вновь выстроенные защиты. Другие события, не имеющие столь разрушительного воздействия, могут быть пережиты субъектом благодаря защитным стратегиям психики, когда посредством определённых внутрипсихических механизмов Эго пытается защитить себя от потенциальной дыры в своей ткани. Индивидуальная реакция субъекта на событие всегда детерминирована его прежним, по большей части - детским опытом. И чем негативнее был этот опыт, тем большую уязвимость имеет субъект перед вызовами, которые бросает ему жизнь.
Ранние травмы могут приводить к потенциальной уязвимости и ранимости субъекта перед событиями повседневности. В этом случае можно сказать, что в психике уже присутствуют пробелы в отношениях Эго и внешнего мира, на месте которых образуются «заплаты» в виде бредо-подобного образования и любые последующие травмирующие события могут ввергнуть такую личность в состояние психотического расстройства. В таком случае тяжелое переживание травматического опыта заменяется ещё более тяжелым психическим расстройством. Что-то насильственное ощущается происходящим внутри, и это отражает насилие, которое, как кажется произошло, или на самом деле произошло во внешнем мире. Таким образом, можно предположить, что травматический опыт при неврозе вытесняется в бессознательное, а при психозе помещается в реальном мире и кажется, что «бессознательное заменяется миром странных объектов» (Бион), а аффект теперь используется для изменения реальности - превращая внутреннее во внешнее. Отрыв болезненного аффекта от опыта приводит к его заморозке или инкапсулированию (что К. Г. Юнг сделал краеугольным камнем своей теории травмы). И отголоски этого аффекта или дериваты вытесненного по Фрейду, постоянно и мучительно о себе напоминают в виде постоянного перепроживания травмы. Бион в подобном инкапсулировании травмы и неспособности сделать пережитой эмоциональный опыт ментальным, видел причины психотических расстройств личности. С точки зрения Теории объектных отношений активизация примитивных защит в ответ на травму «откидывает» субъекта в параноидно-шизоидную позицию в построении отношений с миром с актуализацией всех архаических страхов, присущих этому периоду жизни.
Мы видим, что через оптику психоаналитических теорий тема травмы раскрывается очень многосложно и далеко не однозначно. Работа с травмой требует от специалиста ещё большей чуткости, внимательности, терпения и профессионализма. Поэтому, на мой взгляд, имеет смысл постоянно возвращаться к различным психоаналитическим теориям травмы разных авторов и разных лет, чтобы каждый раз интегрировать прежний опыт с объективной реальностью для создания актуального понимания.
Вне зависимости от теоретических частностей, общими «рабочими инструментами» всех школ психоанализа являются: слушание свободных ассоциаций пациента, работа с переносом, работа со сновидениями, выявление и анализ сопротивлений, интерпретации, эмпатия и непредвзятость аналитика. Бессознательный перенос на аналитика не полностью удовлетворённых в детские годы либидинозных побуждений по отношению к значимым объектам этого периода развития, является ключевым элементом любой психоаналитической техники. И от степени глубины регрессии пациента к своим архаическим объектам любви или ненависти зависит интенсивность и результативность аналитической терапии. В этой связи каждый подход имеет несколько своё представление о степени интенсивности формирования переноса у пациента, количеству и содержанию интерпретаций и анализу содержания сновидений. Для терапии травмы также необходимо восстановление в памяти пациента воспоминаний о травматических переживаниях, чувств и эмоций с ними связанных.
Так, например, если для работы с «давними» детскими травмами, травмами, связанными с переживанием чувства одиночества, с невозможностью установления отношений с другими людьми, не имеющие болезненной остроты в текущем времени, классический психоанализ может быть достаточно эффективен по причине потенциальной готовности пациента к глубокой регрессии. То на мой взгляд, для работы с клиентом в ситуации острой травмы более эффективным может оказаться экзистенциальный или интерсубъективный подходы, позволяющие мягко, без дополнительного стресса и ре-травматизации помочь страдающему интегрировать болезненные переживания и новую реальность в свой внутренний мир и осознать происходящее. Отличительной особенностью такого подхода является создаваемая его рамках атмосфера эмоциональной поддержки пациента, стремление терапевта предоставить эмоциональный приют острым страданиям пациента, а также отказ от принятого в классическом психоанализе правила нейтральности аналитика - то есть в рамках интерсубъективного подхода аналитик руководствуется текущей оценкой факторов, ускоряющих или сдерживающих изменение субъективного мира пациента.
В случае ранних инцестуозных травм, при наличии ярко выраженной пограничной симптоматике психоанализ может оказаться слишком тяжелым испытанием по причине не готовности субъекта к погружению в архаичные болезненные переживания и достаточной холодности и непроницаемости аналитика, а юнгианский подход, наоборот поможет активизировать защиты путём выявления внутренних агрессоров и защитников и посредством расшифровки символов сновидений осознать боль утери невинности (в т.ч. психической) и заново создать свою историю вписав туда теперь уже осознанно пережитые события. Теория травмы К.Юнга включает положения о формировании в психике в результате травматизации множества разных индивидуальных историй и фантазий (комплексов), касающихся травмы - так называемого «личного мифа». Потому на каждом этапе терапии в юнгианском направлении происходит актуализация тех или иных образов этого мифа и работа строится через анализ этих образов и их значения для пациента.
В то же время, школа объектных отношений, клиническая база которой построена на лечении пограничных и психотических пациентов, причины возникновения симптомов которых лежат в нарушенных ранних детско-родительских отношениях (травмы развития), предполагает больше участия терапевта в терапевтическом процессе, нежели классический психоанализ, ограничивающийся выслушиванием свободных ассоциаций и интерпретациями, что для пограничного пациента будет являться дополнительным поддерживающим стимулом к терапии. Так, например, кляйнианский аналитик будет обращать внимание на пробелы в повествовании (а, значит, и в ткани психического), переходить от контекста к фокусу, переводить возникающие образы в нарративную форму, позволяющую понять их смысл и т.д. Благодаря углубленному вниманию к истолкованию таких аспектов аналитических отношений, как перенос и проективная идентификация, аналитик может помочь пациенту интегрировать разрозненные части своего Эго, спроецированные вовне - эти частичные объекты собираются на аналитике и подлежат интерпретации в контрпереносе. То есть, в процессе терапии психика освобождается от плохих объектов (в переносе) в присутствии хорошего объекта - аналитика, образ которого впоследствии интернализируется.
Д.В. Винникотт, разработавший концепцию объектных связей индивида с окружающей средой, полагал, что посредством стимуляции у пациента глубокой регрессии и зависимости от аналитика можно в короткие сроки получить информацию о его переживаниях самых ранних лет жизни. Продолжая развивать идеи Ш. Ференци в этом направлении, он полагал, что аналитик, для достижения терапевтического эффекта должен стать для пациента «нежной матерью», транслируя последнему безоговорочную теплоту и принятие, предоставляя ему полную эмоциональную поддержку и как мать откликается на нужды и потребности младенца, откликаться на потребности в плане общей эмоциональной заботы о пациенте. Потому как именно отсутствие материнской нежности было одним из травмирующих факторов, сказавшихся впоследствии на невротизации человека, а холодность и абстиненция аналитика только обостряют состояние пациента. Именно в такой поддержке он видел предотвращение проваливания пациента в ранние примитивные агонии и постепенное формирование хорошего внутреннего объекта. Винникотт называл это интроекцией «эго-поддерживающего окружения». Такой подход, правда ещё при жизни Винникотта, вызывал массу споров у его коллег. Так, например, в подходе М. Кляйн роль матери-аналитика заключается в способности смягчать и сдерживать врождённый инстинкт смерти младенца-пациента, помочь ему интернализировать хороший объект. Хороший внутренний объект, в свою очередь поможет пациенту преодолеть расщепление параноидно-шизоидной позиции (интегрировать хороший и плохой объекты) и выносить амбивалентность, а не проецировать бесконечно плохой объект на внешнюю реальность.
Подход британской школы, и особенно, У. Биона к терапии травмы также актуален и в случае психотических состояний, как последствий тяжёлого травматического опыта. Неблагоприятные, регулярно фрустрирующие, интенсивные условия и ситуации, в которых сильны дезинтеграционные процессы нарушают у младенца равновесие в одной из позиций развития (параноидно-шизоидной и депрессивной), запуская каждый раз расщепление между идеальным и преследующим объектом, и соответсвенно, чувствами вины и тревоги, что приводит к появлению точек фиксации психозов, которые подобно воронке затягивают всё новые и новые страхи без возможности интроекции и интеграции хороших объектов. И вследствие действия механизмов расщепления анализ психотического субъекта затруднен. Их мир заполнен лишёнными смысла объектами, разрозненными и не переваренными скоплениями β-элементов. Другими словами, тревога рассеяна по всей области бессознательного, поэтому успешность интерпретации часто сводится к нулю. Из-за расщеплённого Эго аналитику важно понимать, к какой части личности адресовать интерпретацию. Кроме того, очень часто их агрессивные чувства проецируются на аналитика с целью разрушить его (вместо себя), что также важно интерпретировать. В случае шизоидных пациентов такие интерпретации специфических причин расщепления приводят к частичному синтезу личностных структур, вследствие чего отчужденность сменяется депрессией и тревогами, что выводит субъекта на более высокий уровень функционирования.
Несмотря на сложность теоретических построений У. Биона, его концепции контейнера и контейнируемого, β-элементов и α-функции и понятие «нападение на связь» очень наглядно проявляются в практическом применении. В терапии «нападение на связь» может проявиться в попытке диссоциироваться от возможной боли вследствие активизации уже известной психике реакции на первоначальную раннюю травму, когда вместе с расщепленным Эго расщепляется и способность субъекта к суждениям и к восприятию интерпритаций, а также всевозможные отыгрывая клиента, когда вместо того, чтобы выражать аналитику свои чувства (как правило сексуального или агрессивного характера) происходит перенос их вовне на реальные объекты. В терапии травмы шаг за шагом, терапевт помогает перерабатывать β-элементы в α-элементы,клиент, постепенно ре-интроецирует впечатления, связанные с травмой, - происходит «починка» контейнера и интеграция полученного травматического опыта в свою психическую жизнь.
Но вне зависимости от подхода, терапия травмы должна содержать три основных направления работы:
- создание и поддержание безопасных доверительных отношений с терапевтом;
- воссоздание в памяти травматический событий;
- раскрытие эмоциональной компоненты пережитого;
- создание / восстановление связей пациента со своим травматическим опытом, с самим собой, с окружающим миром.
Таким образом, можно сказать, что перед человеком, пережившим травматическое событие, всегда очень остро стоит задача психического связывания, переработки и проработки невыносимых, страшных, болезненных аспектов его личной истории, а также работа по ассимиляции и интеграции этого опыта в собственную психическую жизнь. Р. Столороу в работе «Травма и человеческое существование» говорит: «Проживание травмы - это восстановления целостности раненной структуры. Утверждение темпоральности жизни посредством терапевтического диалога, нахождение «эмоционального приюта» для невыносимых болезненных переживаний».
В завершении можно сказать, что результатом терапии травмы является отыскание не смысла произошедшего, а смысла жить дальше.
Понятие психотравмы действительно многомерно и очень субъективно. Семантика этого термина довольно размытая, так как травма - это всегда стресс, но при этом не всякий стресс приводит к травме. И потому всестороннее исследование теории психотравмы необходимо, в первую очередь, для выбора верного направления работы с травмированным клиентом.
Травма - это разрушение устоявшегося образа жизни, представлений о безопасности и стабильности окружающего мира, устоявшихся психических структур и защитных стратегий. Травма - это событие, делающее субъекта уязвимым для любых тревог - как из внешних, так и из внутренних источников. Примитивные страхи, импульсы и тревоги обретают новую жизнь. Вера в фундаментальную доброту объектов и, собственно, в доброту самого мира расшатывается. Утрата веры в предсказуемость мира и в охранную функцию хороших объектов, как внутренних, так и внешних, неизбежно будет означать возрождение страхов перед жестокостью и силой плохих объектов.
Одни события в истории субъекта полностью нарушают привычные констелляции психики, вдребезги разбивая её фильтрующие защитные барьеры и со временем проникая сквозь любое временное отрицание и вновь выстроенные защиты. Другие события, не имеющие столь разрушительного воздействия, могут быть пережиты субъектом благодаря защитным стратегиям психики, когда посредством определённых внутрипсихических механизмов Эго пытается защитить себя от потенциальной дыры в своей ткани. Индивидуальная реакция субъекта на событие всегда детерминирована его прежним, по большей части - детским опытом. И чем негативнее был этот опыт, тем большую уязвимость имеет субъект перед вызовами, которые бросает ему жизнь.
Ранние травмы могут приводить к потенциальной уязвимости и ранимости субъекта перед событиями повседневности. В этом случае можно сказать, что в психике уже присутствуют пробелы в отношениях Эго и внешнего мира, на месте которых образуются «заплаты» в виде бредо-подобного образования и любые последующие травмирующие события могут ввергнуть такую личность в состояние психотического расстройства. В таком случае тяжелое переживание травматического опыта заменяется ещё более тяжелым психическим расстройством. Что-то насильственное ощущается происходящим внутри, и это отражает насилие, которое, как кажется произошло, или на самом деле произошло во внешнем мире. Таким образом, можно предположить, что травматический опыт при неврозе вытесняется в бессознательное, а при психозе помещается в реальном мире и кажется, что «бессознательное заменяется миром странных объектов» (Бион), а аффект теперь используется для изменения реальности - превращая внутреннее во внешнее. Отрыв болезненного аффекта от опыта приводит к его заморозке или инкапсулированию (что К. Г. Юнг сделал краеугольным камнем своей теории травмы). И отголоски этого аффекта или дериваты вытесненного по Фрейду, постоянно и мучительно о себе напоминают в виде постоянного перепроживания травмы. Бион в подобном инкапсулировании травмы и неспособности сделать пережитой эмоциональный опыт ментальным, видел причины психотических расстройств личности. С точки зрения Теории объектных отношений активизация примитивных защит в ответ на травму «откидывает» субъекта в параноидно-шизоидную позицию в построении отношений с миром с актуализацией всех архаических страхов, присущих этому периоду жизни.
Мы видим, что через оптику психоаналитических теорий тема травмы раскрывается очень многосложно и далеко не однозначно. Работа с травмой требует от специалиста ещё большей чуткости, внимательности, терпения и профессионализма. Поэтому, на мой взгляд, имеет смысл постоянно возвращаться к различным психоаналитическим теориям травмы разных авторов и разных лет, чтобы каждый раз интегрировать прежний опыт с объективной реальностью для создания актуального понимания.
Вне зависимости от теоретических частностей, общими «рабочими инструментами» всех школ психоанализа являются: слушание свободных ассоциаций пациента, работа с переносом, работа со сновидениями, выявление и анализ сопротивлений, интерпретации, эмпатия и непредвзятость аналитика. Бессознательный перенос на аналитика не полностью удовлетворённых в детские годы либидинозных побуждений по отношению к значимым объектам этого периода развития, является ключевым элементом любой психоаналитической техники. И от степени глубины регрессии пациента к своим архаическим объектам любви или ненависти зависит интенсивность и результативность аналитической терапии. В этой связи каждый подход имеет несколько своё представление о степени интенсивности формирования переноса у пациента, количеству и содержанию интерпретаций и анализу содержания сновидений. Для терапии травмы также необходимо восстановление в памяти пациента воспоминаний о травматических переживаниях, чувств и эмоций с ними связанных.
Так, например, если для работы с «давними» детскими травмами, травмами, связанными с переживанием чувства одиночества, с невозможностью установления отношений с другими людьми, не имеющие болезненной остроты в текущем времени, классический психоанализ может быть достаточно эффективен по причине потенциальной готовности пациента к глубокой регрессии. То на мой взгляд, для работы с клиентом в ситуации острой травмы более эффективным может оказаться экзистенциальный или интерсубъективный подходы, позволяющие мягко, без дополнительного стресса и ре-травматизации помочь страдающему интегрировать болезненные переживания и новую реальность в свой внутренний мир и осознать происходящее. Отличительной особенностью такого подхода является создаваемая его рамках атмосфера эмоциональной поддержки пациента, стремление терапевта предоставить эмоциональный приют острым страданиям пациента, а также отказ от принятого в классическом психоанализе правила нейтральности аналитика - то есть в рамках интерсубъективного подхода аналитик руководствуется текущей оценкой факторов, ускоряющих или сдерживающих изменение субъективного мира пациента.
В случае ранних инцестуозных травм, при наличии ярко выраженной пограничной симптоматике психоанализ может оказаться слишком тяжелым испытанием по причине не готовности субъекта к погружению в архаичные болезненные переживания и достаточной холодности и непроницаемости аналитика, а юнгианский подход, наоборот поможет активизировать защиты путём выявления внутренних агрессоров и защитников и посредством расшифровки символов сновидений осознать боль утери невинности (в т.ч. психической) и заново создать свою историю вписав туда теперь уже осознанно пережитые события. Теория травмы К.Юнга включает положения о формировании в психике в результате травматизации множества разных индивидуальных историй и фантазий (комплексов), касающихся травмы - так называемого «личного мифа». Потому на каждом этапе терапии в юнгианском направлении происходит актуализация тех или иных образов этого мифа и работа строится через анализ этих образов и их значения для пациента.
В то же время, школа объектных отношений, клиническая база которой построена на лечении пограничных и психотических пациентов, причины возникновения симптомов которых лежат в нарушенных ранних детско-родительских отношениях (травмы развития), предполагает больше участия терапевта в терапевтическом процессе, нежели классический психоанализ, ограничивающийся выслушиванием свободных ассоциаций и интерпретациями, что для пограничного пациента будет являться дополнительным поддерживающим стимулом к терапии. Так, например, кляйнианский аналитик будет обращать внимание на пробелы в повествовании (а, значит, и в ткани психического), переходить от контекста к фокусу, переводить возникающие образы в нарративную форму, позволяющую понять их смысл и т.д. Благодаря углубленному вниманию к истолкованию таких аспектов аналитических отношений, как перенос и проективная идентификация, аналитик может помочь пациенту интегрировать разрозненные части своего Эго, спроецированные вовне - эти частичные объекты собираются на аналитике и подлежат интерпретации в контрпереносе. То есть, в процессе терапии психика освобождается от плохих объектов (в переносе) в присутствии хорошего объекта - аналитика, образ которого впоследствии интернализируется.
Д.В. Винникотт, разработавший концепцию объектных связей индивида с окружающей средой, полагал, что посредством стимуляции у пациента глубокой регрессии и зависимости от аналитика можно в короткие сроки получить информацию о его переживаниях самых ранних лет жизни. Продолжая развивать идеи Ш. Ференци в этом направлении, он полагал, что аналитик, для достижения терапевтического эффекта должен стать для пациента «нежной матерью», транслируя последнему безоговорочную теплоту и принятие, предоставляя ему полную эмоциональную поддержку и как мать откликается на нужды и потребности младенца, откликаться на потребности в плане общей эмоциональной заботы о пациенте. Потому как именно отсутствие материнской нежности было одним из травмирующих факторов, сказавшихся впоследствии на невротизации человека, а холодность и абстиненция аналитика только обостряют состояние пациента. Именно в такой поддержке он видел предотвращение проваливания пациента в ранние примитивные агонии и постепенное формирование хорошего внутреннего объекта. Винникотт называл это интроекцией «эго-поддерживающего окружения». Такой подход, правда ещё при жизни Винникотта, вызывал массу споров у его коллег. Так, например, в подходе М. Кляйн роль матери-аналитика заключается в способности смягчать и сдерживать врождённый инстинкт смерти младенца-пациента, помочь ему интернализировать хороший объект. Хороший внутренний объект, в свою очередь поможет пациенту преодолеть расщепление параноидно-шизоидной позиции (интегрировать хороший и плохой объекты) и выносить амбивалентность, а не проецировать бесконечно плохой объект на внешнюю реальность.
Подход британской школы, и особенно, У. Биона к терапии травмы также актуален и в случае психотических состояний, как последствий тяжёлого травматического опыта. Неблагоприятные, регулярно фрустрирующие, интенсивные условия и ситуации, в которых сильны дезинтеграционные процессы нарушают у младенца равновесие в одной из позиций развития (параноидно-шизоидной и депрессивной), запуская каждый раз расщепление между идеальным и преследующим объектом, и соответсвенно, чувствами вины и тревоги, что приводит к появлению точек фиксации психозов, которые подобно воронке затягивают всё новые и новые страхи без возможности интроекции и интеграции хороших объектов. И вследствие действия механизмов расщепления анализ психотического субъекта затруднен. Их мир заполнен лишёнными смысла объектами, разрозненными и не переваренными скоплениями β-элементов. Другими словами, тревога рассеяна по всей области бессознательного, поэтому успешность интерпретации часто сводится к нулю. Из-за расщеплённого Эго аналитику важно понимать, к какой части личности адресовать интерпретацию. Кроме того, очень часто их агрессивные чувства проецируются на аналитика с целью разрушить его (вместо себя), что также важно интерпретировать. В случае шизоидных пациентов такие интерпретации специфических причин расщепления приводят к частичному синтезу личностных структур, вследствие чего отчужденность сменяется депрессией и тревогами, что выводит субъекта на более высокий уровень функционирования.
Несмотря на сложность теоретических построений У. Биона, его концепции контейнера и контейнируемого, β-элементов и α-функции и понятие «нападение на связь» очень наглядно проявляются в практическом применении. В терапии «нападение на связь» может проявиться в попытке диссоциироваться от возможной боли вследствие активизации уже известной психике реакции на первоначальную раннюю травму, когда вместе с расщепленным Эго расщепляется и способность субъекта к суждениям и к восприятию интерпритаций, а также всевозможные отыгрывая клиента, когда вместо того, чтобы выражать аналитику свои чувства (как правило сексуального или агрессивного характера) происходит перенос их вовне на реальные объекты. В терапии травмы шаг за шагом, терапевт помогает перерабатывать β-элементы в α-элементы,клиент, постепенно ре-интроецирует впечатления, связанные с травмой, - происходит «починка» контейнера и интеграция полученного травматического опыта в свою психическую жизнь.
Но вне зависимости от подхода, терапия травмы должна содержать три основных направления работы:
- создание и поддержание безопасных доверительных отношений с терапевтом;
- воссоздание в памяти травматический событий;
- раскрытие эмоциональной компоненты пережитого;
- создание / восстановление связей пациента со своим травматическим опытом, с самим собой, с окружающим миром.
Таким образом, можно сказать, что перед человеком, пережившим травматическое событие, всегда очень остро стоит задача психического связывания, переработки и проработки невыносимых, страшных, болезненных аспектов его личной истории, а также работа по ассимиляции и интеграции этого опыта в собственную психическую жизнь. Р. Столороу в работе «Травма и человеческое существование» говорит: «Проживание травмы - это восстановления целостности раненной структуры. Утверждение темпоральности жизни посредством терапевтического диалога, нахождение «эмоционального приюта» для невыносимых болезненных переживаний».
В завершении можно сказать, что результатом терапии травмы является отыскание не смысла произошедшего, а смысла жить дальше.
23 НОЯБРЯ / 2023
Автор: Лыскина Ольга
Фотография: из открытых источников
Фотография: из открытых источников
